Автор: Евгений Шифферс
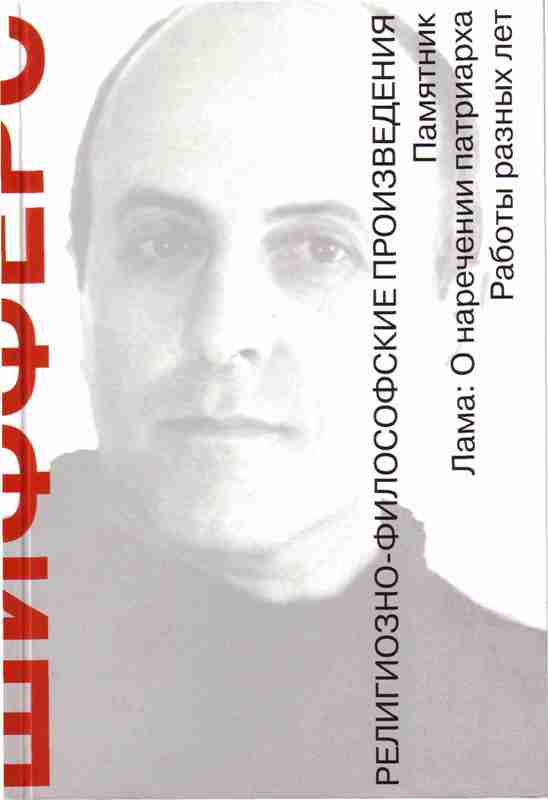
Владимир Малявин. По живому...
Евгений Шифферс. Смертью смерть поправ (роман). Составление и общая редакция В. Р. Рокитянского. Москва: Русский институт, 2005. 400 с.
Евгений Шифферс. Религиозно-философские произведения. Составление и общая редакция В.Р. Рокитянского. Москва: Русский институт, 2005. 607 с.
Случилось невероятное: вышло в свет двухтомное собрание сочинений Евгения Львовича Шифферса. Я читал писателей, твердо знавших, что их оценят только после смерти – Киркегора, Ницше, – но они все же печатались при жизни. Я не раз слышал о людях, – среди духовных наставников Китая это почти правило – которые до самой смерти не помышляли о публикации своих записок. Но лично знал только одного такого человека. Это был Евгений Львович. Он жил почти безвыходно в своей комнатке с задернутыми шторами и стенами, завешанными иконами, сознавая с неоспоримой, неумолимой ясностью, что ничего из написанного им при его жизни не может стать доступным миру. То была вовсе не поза, о нет, а нечто судьбийное и даже больше – знак высшего предназначения, даже избранности. Каким-то образом он знал, что должен уйти, оставить себя, чтобы вышла в мир его ослепительная, как солнце, правда родового бытия.
Эти два объемистых тома не должны были появиться. Близкие Е.Л. не спешили с публикацией, издательства не интересовались ею. Но вдруг пришел Владимир Рокитянский, кажется, даже никогда не видевший Е.Л., и проделал титаническую работу по подготовке рукописей к печати, приложил к ним библиографические справки и примечания, фотографии и хронику жизни Шифферса (моя сердечная благодарность ему за эти любовные труды), друзья Е.Л. пожертвовали деньги на издание, О.И. Генисаретский и Ю.В. Громыко написали замечательные сопроводительные статьи, а довел дело до конца, между прочим, главный редактор «Русского Журнала» Г.О. Павловский. Непредсказуемое, поистине провиденциальное стечение обстоятельств.
Теперь мы стоим и даже, я бы сказал, поставлены высшими силами перед загадкой «феномена Шифферса». Что такое его творчество? Проза, богословие, публицистика, вольный мифопоэзис, историософия, наконец, работа гениального режиссера и актера? Все это, за исключением фильмов (жаль, что не осуществился первоначальный план приложить их отдельным видеодиском к книгам) в настоящем двухтомнике есть и притом самой высокой пробы, но все это подчинено не литературным условностям, а более высоким и в то же время насущным для жизни целям. В своем истоке написанное Шифферсом – это не описание, а исповедание, не самовыражение, а видетельствование, не рефлексия, а страсть и мука. Исповедание чего? Свидетельствование о чем? Исповедание Христовой веры и свидетельствование о ее живом опыте – стоянии в оглушающей любви Бога и, как неизбежное следствие, приятии крестной смерти. У Шифферса есть изумительные по литературным достоинствам и духовной искренности страницы, посвященные душевному состоянию Иисуса. Он идет до конца и уже в 1971 г. формулирует тему богооставленности как высшего выражения Божьей любви. Тема древняя: еще Ориген отмечал, что покинутость целительна. Но много ли найдется сейчас в России богословов и архиереев способных говорить об этом?
Жизнь с Богом – истинно свободная. В ней есть все, что может вместить в себя человеческая душа и еще несказанно многое сверх того, что в нее вмещается, но властно требует приятия и воплощения. В ней все обретают, все отдавая, все пребывает во всем, все ранит и все ранимо, все по живому. В истории были правители и герои, которые хотели вымостить этот такой близкий и такой далекий путь от человека к Богу жизнями других людей. Е.Л. потому и был гениальным писателем, что жертвовал собственной жизнью. Спроецировенный на двухмерное пространство бумажного листа, остывший в букве, отданный на снисходительное рассмотрение критики его опыт бездны мертвеет и обессмысливается. Но теперь я понимаю, что эта хроническая ущербность письма по-своему компенсировалась в Е.Л. совершенно особенной интонацией речи: глухой, как бы робкий в начале фразы, его поставленный актерский голос вдруг резко взмывал крещендо, застывал вверху, дрожа и почти срываясь на хрип в сдавившем его спазме, а потом падал вниз, словно описывая невидимую амплитуду иератизма жизни. Кому как, но для меня одним из самых убедительных доказательств того, что Бог есть, был голос Шифферса.
Святость отделена от мира таинственной – неизмеримой и неустранимой – дистанцией. В последней глубине своего духовного опыта Е.Л. знал, что образ и жизнь – одно и то же. Недаром его откровение состояло, собственно, в познании того, что святые иконы смотрят на него живым взором. Этот взгляд, раня и пробуждая сознание, заставляет вглядываться в себя. Шифферс был, поистине, режиссером и актером от Бога. У него переживание совершенно естественно изливалось в мизансцену, восторг и мука духовного опыта получали спонтанно-безупречную артикуляцию.
Не умею и не хочу смотреть на тексты этого страстотерпца глазами «незаинтересованного читателя». Не могу даже представить, что такое «чтение Шифферса». Как можно «читать» раскаленную магму смертного опыта? Но знаю, что прежде, а пуще после прочтения произведений Е.Л., придется разбираться с метапроблемой этого духовно-писательского феномена: как возможна в этом мире невозможная истина? Чем жив человек, переживший смерть?
Таков фон, на котором у Е.Л. развертывается тема русской гениальности, которая – важное новшество в русском самосознании – органически восходит до православной святости, охватывая и светского Пушкина, и преп. Серафима Саровского, и особенно близкого Е.Л. писателя-монаха К. Леонтьева. Природу русской гениальности-святости, и всю глубину ее драмы, можно выразить с виду простой, а по сути бесконечно сложной формулой: это всемирность, исключенная из мира. Призвание России – «иная» и подлинная вселенскость, хотя бы потому, что подлинное в мире никогда не на виду, не оправдывает само себя, пребывает «по ту сторону». И здесь мы касаемся коренного вопроса творчества Е.Л.: каким образом возможна преемственность потустороннего и здешнего, что означает также: как можно жить в смерти? Речь идет о том символическом пространстве жизни с Богом, где бытие и видение суть одно; пространстве священства и таинства, организуемого по закону сверхлогического схождения крайностей, где умалиться – значит возвыситься, а уйти – значит с еще большей убедительностью вернуться в мир. По сути, на этой основе и созидалась русская духовная традиция, а отпадение от нее измеряется степенью приверженности к интеллектуалистской формалистике.
Таковы посылки шифферовской историософии, которая исходит из примата духовного события как откровения и чуда, не нуждающихся в эмпирическом подтверждении и тем не менее, в соответствии с евангельским заветом, опознаваемых «по плодам их». Духовные события могут не быть фактом «объективной действительности», но они способны перевернуть мир. Истинность евхаристии не доказывается теоретически, а открывается в опыте безусловной реальности жизни. Это означает, что духовная традиция оправдывается – и одновременно становится неуязвимой для догматизма – историей «в целом», ее бесконечно длительной и притом всемирной, в сущности, эсхатологической перспективой. Сама русская вселенскость строится по закону «инако»-бытности: она там, где нет ничего исторически и культурно ограниченного. Шифферс не был простым «прихожанином» храма – он хотел жить в Церкви и Церковью. Ему дано было искать всемирность Христа. До самой кончины он с неуклонно возраставшей убежденностью проповедовал синтез буддизма (преимущественно в виде ламаизма) и православия под главенством последнего. Он извлек из своего религиозного опыта оригинальную концепцию «Будды-ко-Христу». Его мысль взлетала к заоблачным высотам «синтеза арийско-китайско-тибетской культуры». Западное же христианство, особенно в его иезуитском и тем более протестантском изводе, предстает у него воплощением обмирщенного духа властолюбия и наживы.
В полном согласии со своими принципами Шифферс настаивает на божественной природе царской власти и всеобщем покаянии за истребление царского рода в России. То, что последний русский царь был круглым политическим неудачником, в свете его историософии лишь подтверждает его святость. Закономерно и то огромное значение, которое он придавал отношениям царской семьи с блаженной Пашей и даже Распутиным: в них представлена вся драма торжествующей в своем самоумалении святости. По той же причине я вижу в его теме «пути царей» не политическую программу в собственном смысле слова, а указание, данное по необходимости в символической форме, на условия духовного возрождения России. Что не мешало Е.Л. считать это возрождение делом в высшей степени реальным и практическим как раз потому, что есть вещи куда более реальные и практические, чем политика. Это более действительное, чем действительность, и более действенное, чем любое действие начало есть не что иное, как утопический элемент в нашем сознании, «инако»-бытность святости. Человек реален и подлинен обетованием «небесного совершенства». Но Царствие Небесное не падает само на человека, в него «входят», оно «берется» человеком и, однако же, не силой, а сверхусилием (читай: покоем) бодрствования и любви. Отсюда интерес Е.Л. к медитативной практике Востока и главная тема его последних лет жизни: сознательное прохождение через смертный опыт.
Не знаю, изменится ли мир или хоть что-нибудь в нем сейчас, когда голос Е.Л. стал достоянием гласности. Еще Конфуций заметил, что две вещи в мире остаются неизменными: бездна глупости и бездна мудрости. Но знаю точно, что пребывать в прежнем равнодушии и беспечности уже невозможно. Исповедничество Шифферса взывает к нам. |