Автор: Григорьева Н.Я.
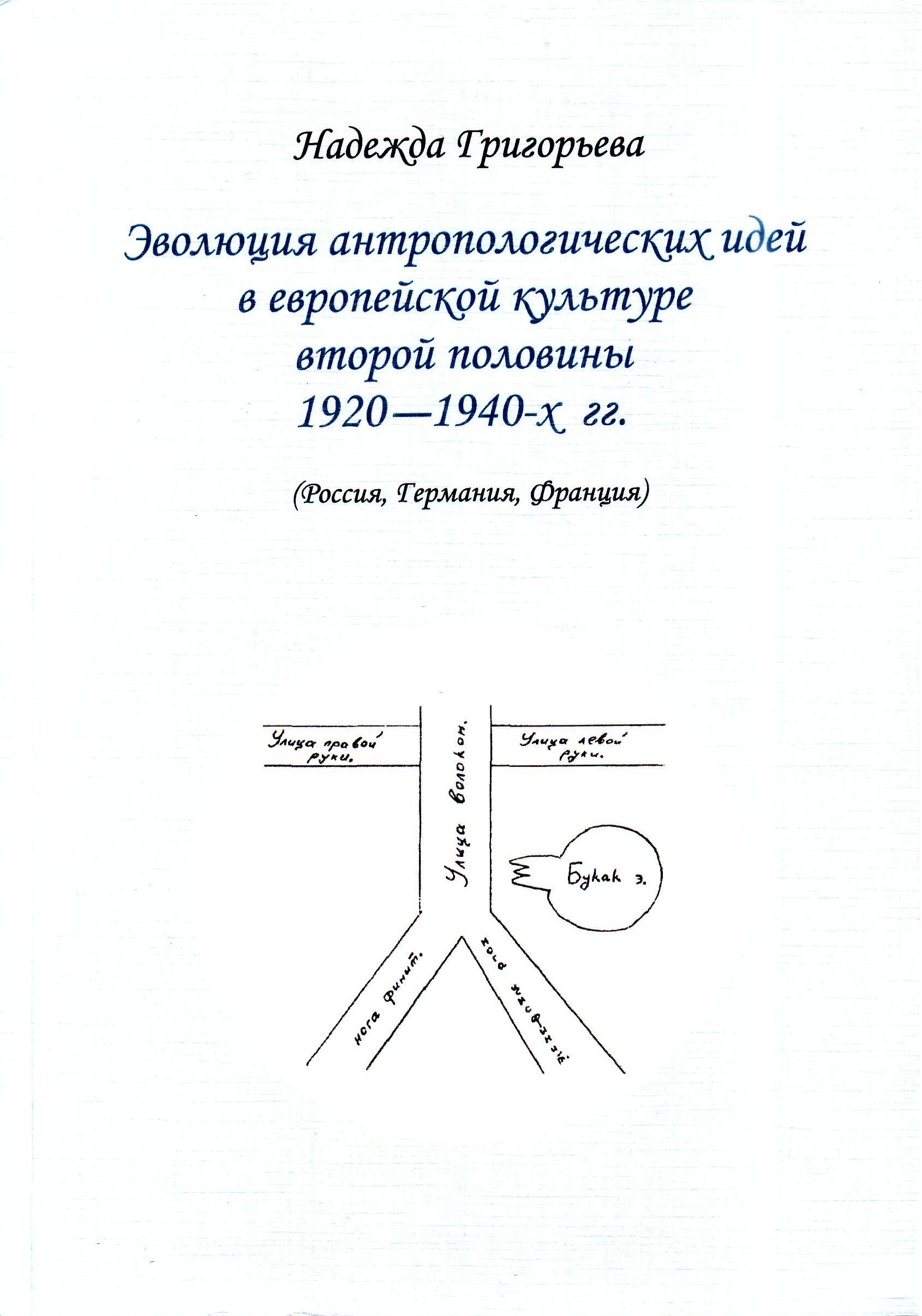
Григорьева Н.Я. Эволюция антропологических идей в европейской культуре второй половины 1920 – 1940-х г.г. (Россия, Германия, Франция): Монография. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2008. – 344 с.
В очень интересной, оригинальной и даже неожиданной (хотя нас, интеллектуальных гурманов мало уже чем удивишь) работе Надежды Яковлевны Григорьевой рисуется богатая картина антропологических идей, концептов и образов человека, которые разрабатывались в разных культурных практиках 20-40 годов прошлого века в европейских странах, в России, Франции, Германии.
Автор, владея материалом и языками, смогла показать богатые пересечения и неожиданные сплавы и гибриды идей в том культурном котле, в котором варилась тогдашняя Европа,
и на удивление, Советская Россия не была такой уж закрытой за железным занавесом.
Приводятся интересные параллельные стыки между Г.Плесснером и М.Бахтиным (вообще очень редкий опыт в гуманитаристике), сличаются образы Пути у М.Хайдеггера и мифологема странничества у А.Платонова.
Особо анализируется внутренний опыт экстремальных практик трансгрессии, которые потом развились в эпоху постмодерна, а зародились именно в 20 годах – экстремальные опыты и образы в творчестве Дзиги Вертова, М.Бланшо, Ж.Батая, А.Платонова и др.
Особо необходимо отметить, что книга не ограничивается собственно философским дискурсом. Наоборот, философия человека рассматривается на широком культурном фоне театральных, художественных, кинематографических практик, в авангарде которых стояли Эйзенштейн, Дзига Вертов, Платонов, поэтику и творчество которых через призму антропологических идей и анализирует Григорьева.
Автор признается, что книга носит экспериментальный, поисковый характер. В силу этого, не все авторы оказались включенными Н.Я.Григорьевой в орбиту разговора.
Добавлю от себя, что не хватало не просто некоторых авторов, но не хватало ключевых, которые, с моей точки зрения и формировали антропологический дискурс 20-40-х годов прошлого века. Это П.А.Флоренский, чей цикл «У водоразделов мысли» был началом атроподицеи, задуманной Флоренским для разработки авторской философской антропологии «в гетеанском смысле». Хотелось бы особо посмотреть, как пересекались и перекликались идеи Л.С.Выготского и его школы с уже названными Бахтиным и Эйзенштейном. Если с Бахтиным Выготский не был знаком, то с Эйзенштейном он просто дружил. Их творчество влияло друг на друга несомненно. Также, например, работы М.Бубера, Э.Левинаса, М.Шелера, Льва Шестова, несмотря на свою известность, хотелось бы посмотреть на предмет взаимных влияний, перекличек и пересечений и через призму формирования калейдоскопа антропологических идей. Тут же можно отметить и кружок А.Кожева, его лекции по комментированию «Феноменологии духа» Гегеля в 30-х годах в Париже, на которые ходили многие парижские интеллектуалы, ставшие вождями постмодерна впоследствии.
Отмеченное только подчеркивает остроту и значимость названной книги, от которой отдает свежестью утренней росы и тонкостью стиля.
|